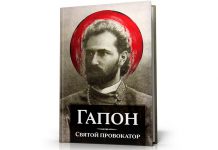Недавно VATNIKSTAN опубликовал воспоминания ротмистра Владимира Парфёнова о жизни и быте революционеров в Шлиссельбургской крепости в начале XX века. Воспоминания настолько удивляют подробностями, что позволили сравнить заключённых с «государевыми дачниками». И правда: разводили огород, полноценно питались, заказывали книжки с «большой земли», писали письма родственникам… И это вы называете «кровавым царизмом»?..
Хотелось бы отметить несколько моментов, которые читатель может и не узнать при чтении интересных мемуаров Парфёнова. Бывший завхоз политической тюрьмы описывает условия, в которых крепость оказалась к началу века: и надо сказать, что те годы действительно были временем серьёзного улучшения материальной стороны жизни узников. Однако до того, особенно в 1880‑е годы, при наибольшем наплыве народовольческой «волны» заключённых, обстоятельства были иными.
Не очень-то «дачные» условия приводили к смертям от болезней, переписка долгие годы была вообще запрещена, интересная и разнообразная тюремная библиотека складывалась годами — во многом вследствие протестов, голодовок и частых требований заключённых. Частично улучшение условий могло быть связано и с тем, что число заключённых сократилось, а общий «бюджет» тюрьмы при этом мог оставаться прежним.
Парфёнов скрупулёзно расписывает завтраки и обеды узников, как будто забывая, что жизнь в тюрьме состояла не только из них. Гораздо большее значение имела психологическая замкнутость, которую может легко почувствовать даже современный посетитель Шлиссельбургской крепости — попробуйте съездить туда пасмурным осенним днём и представить себе долгие годы заключения на маленьком острове, оторванном от жизни и деятельности.
Ощущение безысходности неплохо передала революционерка Вера Фигнер в томе своих воспоминаний, озаглавленном «Когда часы жизни остановились». Она провела в крепости двадцать лет, с 1884-го по 1904 годы. Публикуем избранные отрывки из её мемуаров, которые гораздо лучше любых комментариев характеризуют картину повседневности узников Шлиссельбурга их собственными глазами.
Мы были лишены всего: родины и человечества, друзей, товарищей и семьи; отрезаны от всего живого и всех живущих.
Свет дня застлали матовые стёкла двойных рам, а крепостные стены скрыли дальний горизонт, поля и людские поселения.
Из всей земли нам оставили тюремный двор, а от широт небесного свода — маленький лоскут над узким, тесным загончиком, в котором происходила прогулка.
Из всех людей остались лишь жандармы, для нас глухие, как статуи, с лицами неподвижными, как маски.

И жизнь текла без впечатлений, без встреч. Сложная по внутренним переживаниям, но извне такая упрощённая, безмерно опорожненная, почти прозрачная, что казалась сном без видений, а сон, в котором есть движение, есть смена лиц и краски, казался реальной действительностью.
День походил на день, неделя — на неделю, и месяц — на месяц. Смутные и неопределённые, они накладывались друг на друга, как тонкие фотографические пластинки с неясными изображениями, снятыми в пасмурную погоду.
Иногда казалось, что нет ничего, кроме «я» и времени, и оно тянется в бесконечной протяжённости. Часов не было, но была смена наружного караула: тяжёлыми, мерными шагами он огибал тюремное здание и направлялся к высокой стене, на которой стояли часовые.
Камера, вначале белая, внизу краплёная, скоро превратилась в мрачный ящик: асфальтовый пол выкрасили чёрной масляной краской; стены вверху — в серый, внизу почти до высоты человеческого роста — в густой, почти чёрный цвет свинца.
Каждый, войдя в такую перекрашенную камеру, мысленно произносил: «Это гроб!»
И вся внутренность тюрьмы походила на склеп. Однажды, когда я была наказана и меня вели в карцер, я видела её при ночном освещении. Небольшие лампочки, повешенные по стенам, освещали два этажа здания, разделённых лишь узким балконом и сеткой. Эти лампы горели, как неугасимые лампады в маленьких часовнях на кладбище, и сорок наглухо замкнутых дверей, за которыми томились узники, походили на ряд гробов, поставленных стоймя.
Со всех сторон нас обступала тайна и окружала неизвестность: не было ни свиданий, ни переписки с родными. Ни одна весть не должна была ни приходить к нам, ни исходить от нас. Ни о ком и ни о чём не должны были мы знать, и никто не должен был знать, где мы, что мы.
— Вы узнаете о своей дочери, когда она будет в гробу, — сказал один сановник обо мне в ответ на вопрос моей матери.
Самые имена наши предавались забвению: вместо фамилий нас обозначили номерами, как казённые вещи или бумаги; мы стали номерами 11, 4, 32‑м…
Неизвестна была местность, окружающая нас, — мы не видали её. Неизвестно здание, в котором нас поселили, — мы не могли обойти и осмотреть его. Неизвестны узники, находящиеся тут же, рядом, соединённые под одной кровлей, но разъединённые толстыми каменными стенами.
Исчезло всё обычное и привычное, всё близкое, понятное и родное.
Осталось незнакомое, чуждое, чужое и непонятное.
И над всем стояла, всё давила тишина. Не та тишина среди живых, в которой нервы отдыхают. Нет, то была тишина мёртвых, та жуткая тишина, которая захватывает человека, когда он долго остаётся наедине с покойником. Она молчала, эта тишина, но, молча, говорила о чём-то, что будет, она внушала что-то, грозила чем-то.
Эта тишина была вещей.
Человек настораживался, прислушивался к ней, готовился к чему-то и ждал…
Не могла же эта тишина продолжаться вечно?!
Должна же она чем-нибудь кончиться! Предчувствие грядущего начинало томить душу: среди этой вещей тишины должно что-то произойти, должно что-то случиться. Неотвратимое, оно произойдёт; непоправимое, оно случится и будет страшным, страшнее всего страшного, что уже есть.
И шёл день, похожий на день, и приходила ночь, похожая на ночь.
Приходили и уходили месяцы; проходил и прошёл год — год первый; и был год, как один день и как одна ночь.
В Шлиссельбург привозили не для того, чтоб жить.

В первые же годы умерли Малавский, Буцевич, Немоловский, Тиханович, Кобылянский, Арончик, Геллис, Исаев, Игнатий Иванов, Буцинский, Долгушин, Златопольский, Богданович, Варынский; за протест были расстреляны Минаков, Мышкин; повесился Клименко; сжёг себя Грачевский; сошли с ума Ювачёв, Щедрин, Конашевич; чуть не заболел душевно Шебалин. Позднее сошёл с ума Похитонов, умер Юрковский.
На восьмом году нашего заключения зарезалась Софья Гинзбург: она не вынесла больше месяца той изоляции, которую мы выносили годы, а тогда уже не было первого коменданта — пергаментного Покрошинского и первого смотрителя — железного Соколова.
И те, которые выходили из Шлиссельбурга, не могли уже жить: Янович и Мартынов застрелились в Сибири; Поливанов покончил с собой за границей. Переживания Шлиссельбурга высосали из них все жизненные силы; в нём они истратили всю способность сопротивляться неудачам и несчастьям жизни — им нечем было жить.
В тюрьме люди не могут обойтись без сношений между собой: совсем не стучат только одни душевнобольные. Но если одним нарушителям тюремных правил можно было дать прогулку вдвоём и огород, казалось бы, следовало дать их всем. Но этого не было, и некоторые товарищи, как Кобылянский, Златопольский, умерли, не увидав дружеского лица. Другим, как Панкратову, Мартынову, Лаговскому, пришлось ждать этой льготы целые годы.
Какими средствами, не имеющими ничего общего с «хорошим поведением», иногда можно было добиться свидания с товарищем, можно видеть из следующего примера, случившегося с М. Р. Поповым.
Однажды наша тюрьма огласилась криком «Караул!!!».
Все насторожились, недоумевая, в чём дело.
Мгновенно форточка в двери Попова открылась, и в ней появилось лицо смотрителя Соколова.
— Что нужно? — грубо спросил он.
— Не могу дольше так жить! — отвечает Попов. — Дайте свидание!
Смотритель помолчал и смотря в упор ему в лицо, сказал:
— Доложу начальнику управления.
Через несколько минут является Покрошинский (комендант).
— Что нужно заключённому? — спрашивает он.
— Не могу дольше жить так… — повторяет Попов. — Дайте прогулку вдвоём!
Покрошинский:
— Заключённый кричал «Караул!» и требует льготы… Пусть заключённый подумает; если мы теперь же исполним его желание, какой пример это подаст другим?! Но если заключённый немного подождёт, мы удовлетворим его. Если же он вздумает кричать опять, мы уведём его в другое помещение (т. е. в старую тюрьму, в карцер).
Михаил Родионович нашёл более выгодным подождать, и через несколько дней его свели на гулянье с М. П. Шебалиным.
Но не всякий был так изобретателен, как Михаил Родионович, и большинство молчало. Иногда раздача льгот была прямо-таки орудием непонятной злобы и мести в руках смотрителя. Если на его «ты» ему отвечали той же монетой, то заключённый терял все шансы на то, чтоб увидеться с кем-нибудь из своих, хотя бы дни его жизни были сочтены. Савелий Златопольский никаких столкновений со смотрителем не имел, но стучал с соседями, хотя весьма мало. У него открылось сильное кровотечение горлом… Силы его падали день ото дня, но смотритель с холодной жестокостью оставлял его в одиночестве. То же было с Кобылянским, который говорил смотрителю «ты»… Отсутствие льгот у Панкратова тоже было актом мести.
Тяжело было, возвращаясь с прогулки, думать о соседе, лишённом последней радости — видеться с товарищем. Тяжело гулять вдвоём, когда тут же вблизи уныло бродит товарищ, тоже жаждущий встречи и столь же нуждающийся в обществе, в сочувствии, в друге.
Незадолго перед троицей, когда было уже 9 часов вечера и смотритель делал обычный обход тюрьмы, заглядывая в «глазок» каждой двери, Попов громким стуком из далёкой камеры внизу позвал меня.
Я устала: томителен и долог ничем не заполненный тюремный день. Хотелось броситься на койку и заснуть, но не хватало духа отказать — и я ответила.
Однако, как только Попов стал выбивать удары, на полуслове речь оборвалась. Я услышала, как хлопнула дверь, раздались многочисленные шаги по направлению к выходу и всё смолкло.
Я поняла — смотритель увёл Попова в карцер.
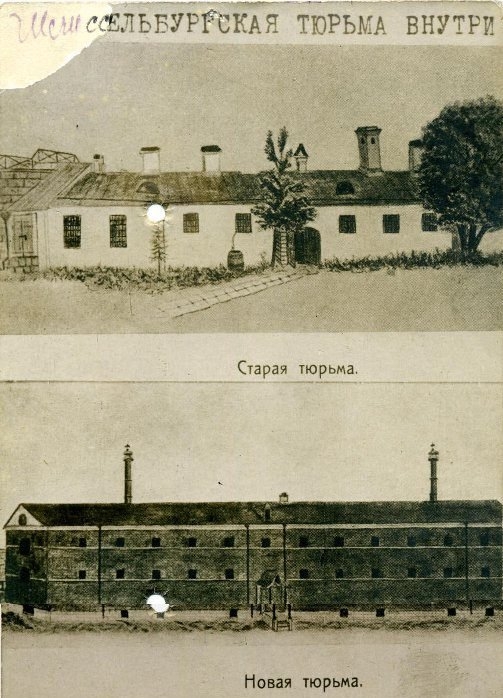
Карцер был местом, о котором смотритель угрожающе говорил: «Я уведу тебя туда, где ни одна душа тебя не услышит».
Ни одна душа — это страшно.
Здесь, под кровлей тюрьмы, мы, узники, все вместе: в отдельных каменных ячейках все же кругом свои, и это — охрана и защита.
Если крик, крик услышат.
Если стон, стон услышат.
А там?.. Там ни одна человеческая душа не услышит.
Я знала, что не так давно Попов был там и его жестоко избили. Мысль, что он опять будет в этом страшном месте, будет один и целая свора жандармов вновь бросится на него, безоружного человека, эта мысль, явившаяся мгновенно, казалась мне такой ужасной, что я решила: пойду туда же; пусть знает, что он не один и есть свидетель, если будут истязать его.
Я постучала и просила позвать смотрителя.
– Что нужно? — сердито спросил он, открыв форточку двери.
– Несправедливо наказывать одного, когда разговаривали двое, — сказала я. — Ведите в карцер и меня.
– Хорошо, — не задумываясь ответил смотритель и отпер дверь.
Тут-то впервые я увидела внутренность нашей тюрьмы при вечернем освещении: маленькие лампочки по стенам нашего склепа… сорок тяжёлых черных дверей, стоящих, как гробы, поставленные стоймя, и за каждой дверью — товарищ, узник, каждый страдающий по-своему: умирающий, больной или ожидающий своей очереди.
Как только по своему «мостику вздохов» я пошла к лестнице, раздался голос соседа: «Веру уводят в карцер!» — и десятки рук стали неистово бить в двери с криком: «Ведите и нас!»
Среди мрачной обстановки, глубоко взволновавшей меня, эти знакомые и незнакомые голоса невидимых людей, голоса товарищей, которых я не слыхала уж много лет, вызвали во мне какую-то больную, яростную радость; мы разъединены, но солидарны; разъединены, но душой едины!
А смотритель пришёл в бешенство.
Выйдя на двор в сопровождении трёх-четырёх жандармов, он поднял кулак, в котором судорожно сжимал связку тюремных ключей. С искаженным лицом и трясущейся от злобы бородой он прошипел:
— Пикни только у меня, там я тебе покажу!
Этот человек внушал мне страх: я знала об истязаниях, которые по его приказу совершали жандармы, и в голове пронеслась мысль: «Если меня будут бить, я умру…» Но голосом, который казался чужим по своему спокойствию, я произнесла:
— Я иду не для того, чтобы стучать.
Распахнулись широким зевом тесовые ворота цитадели, и страх сменился восхищением. Пять лет я не видала ночного неба, не видала звёзд. Теперь это небо было надо мной и звёзды сияли мне.
Белели высокие стены старой цитадели, и, как в глубокий колодезь, в их четырёхугольник вливался серебристый свет майской ночи.
Зарос весь плац травою; густая, она мягко хлестала по ноге и ложилась свежая, прохладная… и манила росистым лугом свободного поля.
От стены к стене тянулось низкое белое здание, а в углу высоко темнело одинокое дерево: сто лет этот красавец рос здесь один, без товарищей и в своём одиночестве невозбранно раскинул роскошную крону.
Белое здание было не что иное, как старая историческая тюрьма, рассчитанная всего на 10 узников. По позднейшим рассказам, в самой толще ограды, в стенах цитадели был ряд камер, где будто бы ещё стояла кое-какая мебель, но потолки и стены обвалились, всё было в разрушении. И в самом деле, снаружи были заметны следы окон, заложенных камнем, а в левой части, за тюрьмой, ещё сохранилась камера, в которой жил и умер Иоанн Антонович, убитый при попытке Мировича освободить его.
В пределах цитадели, где стоит белое одноэтажное здание, так невинно выглядевшее под сенью рябины, жила и первая жена Петра I, красавица Лопухина, увлёкшаяся любовью офицера, сторожившего её, и верховник Голицын, глава крамольников, покушавшихся ограничить самодержавие Анны Иоанновны. Там же, в тёмной каморке секретного замка, целых 37 лет томился основатель «Патриотического товарищества» польский патриот Лукасинский и умер в 1868 году, как бы забытый в своём заточении. А в белом здании три года был в заточении Бакунин.
Ключи звякнули, и в крошечной тёмной передней с трудом, точно замок заржавел, отперли тюремную дверь. Из нежилого, холодного и сырого здания так и пахнуло затхлым воздухом. Кругом — голый камень широкого коридора с крошечным ночником, мерцающим в дальнем конце его. В холодном сумраке смутные фигуры жандармов, неясные очертания дверей, тёмные углы — всё казалось таким зловещим, что я подумала: «Настоящий застенок… и правду говорит смотритель, что у него есть место, где ни одна душа не услышит».
В минуту отперли дверь налево, сунули зажжённую лампочку; хлопнула дверь, и я осталась одна.
В небольшой камере, нетопленой, никогда не мытой и не чищенной, — грязно выглядевшие стены, некрашеный, от времени местами выбитый асфальтовый пол, неподвижный деревянный столик с сиденьем и железная койка, на которой ни матраца, ни каких-либо постельных принадлежностей…
Водворилась тишина.
Напрасно я ждала, что жандармы вернутся и принесут тюфяк и что-нибудь покрыться: я была в холщовой рубашке, в такой же юбке и арестантском халате и начинала дрожать от холода. «Как спать на железном переплёте койки?» — думала я. Но так и не дождалась постельных принадлежностей. Пришлось лечь на это рахметовское ложе. Однако невозможно было не только заснуть, но и долго лежать на металлических полосах этой койки: холод веял с пола, им дышали каменные стены, и острыми струйками он бежал по телу от соприкосновения с железом.
На другой день даже и это отняли: койку подняли и заперли на замок, чтобы больше не опускать. Оставалось ночью лежать на асфальтовом полу в пыли. Невозможно было положить голову на холодный пол, не говоря уже о его грязи; чтобы спасти голову, надо было пожертвовать ногами: я сняла грубые башмаки, которые были на мне, и они служили изголовьем. Пищей был черный хлеб, старый, чёрствый; когда я разламывала его, все поры оказывались покрытыми голубой плесенью. Есть можно было только корочку. Соли не давали. О полотенце, мыле нечего и говорить.
Идя в карцер, я рассчитывала на безмолвное пребывание в нем: я шла лишь для того, чтобы Попову одному не было страшно.
Но Попов и не думал молчать — он хотел разговаривать. На другое же утро он стал звать меня, и я имела слабость ответить. Между тем, как только он делал попытку стучать, жандармы, чтобы не допустить этого, хватали полено и принимались неистово бомбардировать мою дверь и дверь Попова — поднимался невероятный шум.
Тот, кто не провёл многих лет в безмолвии тюрьмы, у кого ухо не отвыкло от звуков, не может представить себе, какое страдание шум доставляет уху, изнеженному тишиной.
Бессильная остановить бешеный стук, я приходила в ярость и сама начинала бить кулаками в дверь, за которой неистовствовал жандарм.
Эти сцены были невыносимы.

И всё-таки снова и снова Попов делал свои попытки и вызывал мучительные драки с жандармами через дверь.
Терпение жандармов наконец лопнуло.
Однажды адский шум резко оборвался. Тяжёлые шаги смотрителя раздались в коридоре, и среди жуткой тишины началось шёпотом зловещее совещание, какие-то приготовления. Сейчас, думала я, откроется дверь Попова и начнётся избиение. Неужели я буду пассивным свидетелем этой дикой расправы? Нет, я не вынесу.
Я стала звать смотрителя.
— Вы хотите бить Попова, — надтреснутым голосом сказала я ему, как только он отпер дверную форточку. — Не бейте его! Вы раз уж били его, может и на вас найтись управа!
— И не думали бить, — совершенно неожиданно стал оправдываться смотритель. — Мы вязали его, а он сопротивлялся — вот и всё.
— Нет, вы били, — возразила я уже с силой, чувствуя под ногами почву. — Били. Есть и свидетели.
— 5‑й стучать больше не будет, — продолжала я. — Я скажу — и он перестанет.
— Ладно, — буркнул смотритель.
Я позвала Попова и сказала, что больше не в силах переносить такую войну и прошу прекратить стук.
Водворилось молчание.
На другой день мне принесли чай и постель. Их не дали Попову, и я выплеснула чай под ноги смотрителю и отказалась от пользования постелью. Но я разломила кусок хлеба и, указывая на плесень, сказала смотрителю:
— Вы держите нас на хлебе и воде, так посмотрите же, каким хлебом вы нас кормите.
Смотритель покраснел.
— Перемените, — приказал он жандармам, и через пять минут мне принесли ломоть мягкого, свежего хлеба.
Ещё три ночи я лежала на асфальте в унизительной пыли, в холоде, с казенными котами вместо подушки. Лежала и думала. Думала, как вести себя дальше.
Очевидно, в будущем предстояло ещё много столкновений по разным поводам. В каких же случаях должно, при каких условиях можно и стоит входить в конфликт с тюремной администрацией? Какими средствами бороться с ней, как протестовать?
Всегда ли надо защищать товарища? Первый порыв говорит — всегда. Но всегда ли прав товарищ?
Я прошла через опыт; он был тяжёл. Я пересмотрела всё, что произошло в истёкшие дни; пересмотрела своё поведение и поведение Попова и спрашивала себя: «Хочу ли я и в силах ли бороться теми средствами, к каким прибегает Попов?»
Вот его натура: железные нервы, большое самообладание и громадная сила сопротивляемости, закаленная в школе Карийских рудников и Алексеевского равелина; хладнокровный, упрямый, стальной боец. Его выругают — он отплатит тем же. Грубость тюремщиков, шумные схватки с жандармами ему нипочем. Его связывали, его били, били не раз, били жестоко; и он перенёс и оставил без возмездия, перенёс и мог жить после этого. А я?.. Я не могла бы.
Ясно, что нам не по дороге. На такую борьбу, какую он ведет, моих физических сил, моих нервов не хватает, а с точки зрения моральной я не хочу протестов, не доводимых до конца.
Надо было теперь же определить линию будущего поведения, выбрать твёрдую позицию, взвесить все условия, внутренние и внешние, и раз навсегда решить, как вести себя, чтобы дальше уже не колебаться.
В качестве главного заправилы в русском застенке XIX столетия смотритель Соколов был как нельзя более на своём месте. Он вышел из низов, поступив в 1851 году рядовым; потом, перейдя в жандармы, выслужился из унтер-офицеров корпуса жандармов и, по рассказам, выдвинулся благодаря тому, что проворно, как железными тисками, хватал арестованных за горло при попытках проглотить какую-нибудь компрометирующую записку: повышаясь с 1855–1856 годов по службе (отличался «в делах с польскими мятежниками в 1863 году»), получая ордена и денежные награды, после 1 марта он был произведён в хранители тех, кто привёл царя к гибели: его сделали смотрителем Алексеевского равелина, в который были заключены члены «Народной воли».
Соколов был человеком совершенно необразованным и некультурным, не умевшим даже правильно говорить по-русски: он говорил «эфто» вместо «это», «ихний» вместо «их» и т. д. Когда случилось, что Морозов, желая решить какую-то задачу, нацарапал на стене треугольник, смотритель, ворвавшись в камеру и тыкая пальцем в рисунок геометрической фигуры, угрожающе зашипел:
— Эфто что такое? Прошу без эфтих хитростев!
Среднего роста, очень крепкий для своих 50–55 лет, широкоплечий и коренастый, он имел тупое, суровое лицо, обрамленное тёмной бородой с проседью, серые глаза с упрямым выражением и подбородок, который при волнении судорожно дрожал.
К исполнению своих обязанностей он относился с такой ревностью, что никаким жандармам не доверял наблюдений над узниками. Удивительно, что он спал не в тюрьме, а у себя дома — у него были жена и дети. Не будь он мужем и отцом, вероятно, он был бы день и ночь неразлучен с нами. Широкая мускулистая рука его ни на минуту не выпускала связки ключей от камер: ежедневно собственноручно он отпирал и запирал как их, так и дверные фортки при раздаче пищи, зорко следя за каждым жестом своих подчиненных.
Когда нас выводили на прогулку, он сопровождал каждого, выступая вслед за жандармами, а когда все «клетки» были заполнены, взбирался на вышку и выстаивал вместе с унтерами целые часы подряд во всякую погоду, в снег и дождь, наблюдая, всё ли в должном порядке.
Его жандармы были вышколены до последней степени.
<…>

Сделавшись номерами, мы становились казённым имуществом; его надо было хранить, и это соблюдалось: одних хоронили, других хранили. В коридоре стоял большой шкаф, в котором лежали револьверы, заряженные на случай похищения этого казенного имущества — попытки извне освободить узников.
Мелочный и мстительный характер Соколова вполне обнаруживался в его отношениях к тем, кто, как Кобылянский, говорил ему «ты» в ответ на употребление им этого местоимения; а как он мучил и довёл до самоубийства Грачевского, рассказано на страницах, посвящённых этому товарищу.
Его злость я испытала, когда попала в карцер, а грубость, когда жандармы перехватили в книге моё письмо к Юрию Богдановичу. С товарищами-мужчинами Соколов обращался отвратительно, подвергая за прекословия и неповиновение зверским избиениям, конечно, не собственноручно, а наемными руками своих подчиненных. Душевнобольной Щедрин, Василий Иванов, Манучаров и неоднократно Попов испробовали достаточно силу жандармских кулаков. А после избиения Соколов подходил к связанному Попову и заводил беседу, увещевая вести себя смирно.
— Я говорю, желая тебе добра; говорю, как отец родной, — распинался мучитель.
Его бессердечие сказывалось, когда, замурованные в свои кельи, беспомощно умирали мои товарищи. Короткое официальное посещение врача поутру и общий обход смотрителя в обычные часы вечером — вот в чём состояло всё внимание к умирающему. Больницы или возможности посетить больного товарища не было. А после агонии следовал воровской унос покойника из тюремного здания, тайком, так, чтобы мы не заметили. В камеру, из которой вынесен умерший, жандармы продолжали входить, делая вид, что вносят пищу, и с шумом хлопали дверью, чтоб показать, что никто из нас не выбыл. Когда наш первый тюремный врач, трусливый Заркевич, назначал страдающему цингой или туберкулёзом стакан молока, Соколов помимо врача определял срок пользования этим молоком и по возможности сокращал его.
— Молоко получается? — спрашивал Заркевич, избегая обязательного обращения на «ты».
— Но я же не отменял его, — тихо произносит врач, бросая взгляд на смотрителя.
Тот стоял не моргнув глазом, и дело тем и кончалось. То было продолжение системы, практиковавшейся в Алексеевском равелине, в котором народовольцы умирали от истощения, и доктор Вильмс в оправдание своё говорил:
— Я бессилен: всё зависит от администрации.
А последняя, повинуясь внушениям свыше, должна была уморить тех, кто был отдан в её ведение. Удивительно, что Соколов, этот человек с железной рукой и железным сердцем, случалось, входил в сделки и уступал домогательствам Попова, который непрерывно вёл с ним грубую, хотя и мелочную, борьбу. Так, посадив однажды Попова в карцер на хлеб и воду за стук и поговорив с ним потом, «как отец родной», он заключил с ним перемирие и условился, что Попов будет стучать, но немного и негромко.
Впрочем, не прошло и двух недель, как договор был нарушен Соколовым, и за тот же стук в карцер были последовательно уведены Лаговский, Попов и Волкенштейн, а к ним присоединился Манучаров, обидевшийся на меня и в виде возмездия запевший на всю тюрьму какую-то неистовую арию. В старой тюрьме (но не на карцерном положении), не щадя ни кулаков, ни своих ушей, они провели пять месяцев в постоянных стычках с жандармами, с яростью колотившими в их двери.
Находясь почти весь день в тюрьме, Соколов неоднократно посещал её и ночью. В девять часов вечера мы слышали лязг решетчатых железных ворот, заграждавших вход в коридор, а затем тяжелые мерные шаги смотрителя, переходящего от одной двери к другой и заглядывающего в дверной «глазок» для проверки, цело ли «казённое имущество». В полночь, а потом в три часа ночи повторялось то же самое. А в шесть часов, едва забрезжит утренний свет, он опять уж тут со свежей сменой жандармов, чтоб поднять и запереть в камерах койки и зимой убрать лампу.
Это была настоящая сторожевая собака, неусыпный Цербер, подобный трехголовому псу у ворот тартара, и как тот охранял вход в ад древних греков, так и он сторожил тюремный ад нового времени. Он служил не за страх, а за совесть и любил своё дело — гнусное ремесло бездушного палача. Его готовность идти в своей профессии до конца выразилась вполне в одной угрозе, сказанной при соответствующем случае: «Если прикажут говорить заключённому „ваше сиятельство“, буду говорить „ваше сиятельство“. Если прикажут задушить, задушу». Так откровенно и образно он высказался, кажется, перед Поповым, который не пренебрегал иногда беседовать со своим истязателем.
Когда одного за другим смотритель выводил нас на прогулку и, замыкая шествие, шёл позади зимой в широкой военной шинели с капюшоном, раздуваемым ветром, шёл с мрачным, угрюмым лицом, то напоминал факельщиков, которые провожают катафалк похоронной процессии, следуя за покойником на последнем земном пути его. И разве он не был факельщиком и могильщиком — он, видевший столько картин страдания, болезни и смерти? Не говоря о тех, кого он проводил в могилу из казематов равелина, в течение трёх лет своей службы в Шлиссельбурге он вынес за ограду крепости 12 человек, погибших от физического истощения и морального страдания, и тайно предал их земле в том месте, где в 1918 году воздвигнут памятник усопшим.

В течение тех же трёх лет он проводил на расстрел Минакова и Мышкина и на виселицу — Рогачёва и Штромберга в 1884 году; Ульянова, Шевырёва, Осипанова, Андреюшкина и Генералова — в 1887‑м, чтоб в этом же году закончить зрелищем смерти Грачевского. Удивительно ли, что этот преданный служака, истинный холоп и верноподданный, был совершенно сражён, когда услышал о своем увольнении от должности за нерадение и недосмотр, дозволивший Грачевскому сделать из себя живой факел.
Получая пустые щи и кашу, мы верили, что этот человек любит деньги и умеет воровать. На дневное содержание каждого узника, вручённого ему, давался, как нам говорили, десятикопеечный солдатский паек. Трудно на таком пайке скопить капитал и выстроить палаты каменные. Но мало ли где можно было найти источник дохода, когда для охраны двух-трёх десятков заключённых содержалась вооруженная сила в 144 человека.
Так или иначе, но жандармы рассказывали, что у Соколова в Петербурге есть дом, большой каменный дом. Это оказалось вздором. В 1907 году, 20 лет спустя после его увольнения, в Петербурге вышел первый том «Галереи шлиссельбургских узников». Он лежал на складе в конторе «Русского богатства». Туда явился Соколов и спросил книгу. Не знаю, каким образом, но завязался разговор, причём Соколов сказал, что интересуется содержанием книги, потому что Поливанов в своих мемуарах об Алексеевском равелине о нём, Соколове, «наговорил много лишнего». Книги, однако же, он не купил. Узнав, что она стоит три рубля, он нашёл, что дорого.
По-прежнему стояли белые стены крепости с угловыми башнями, похожими на неудавшиеся пасхальные бабы, и по-прежнему наглухо были заперты крепостные ворота. И речные воды по-прежнему то лежали зеркалом, то с буйным шумом бросались на плоские берега маленького острова в истоках Невы.
А внутри тюрьмы всё изменилось.
Её прежде многочисленное население к концу 1902 года сильно сократилось: нас осталось всего тринадцать. Одни — значительное большинство — умерли от цинги и туберкулёза; другие кончили срок; некоторые были амнистированы, а трое душевнобольных увезены в 1896 году в больницу.
Для тринадцати оставшихся существовал прежний персонал охраны: на каждого узника, по вычислениям товарищей, быть может преувеличенным, приходилось 20–25 человек стражи, и содержание каждого заключённого обходилось благодаря этому не менее 7000 рублей в год — по-тогдашнему сумма крупная.
Заряженные револьверы в коридорном шкафу по-прежнему лежали на полках, но суровые времена отошли в прошлое.
Первый смотритель Соколов сохранялся в памяти как злое предание, неразрывно связанное с гибелью Минакова, Мышкина и Грачевского, с возмутительными сценами со Щедриным, впадавшим в буйство, и некоторыми из тех, кого уводили в карцер за стук.
Ушёл за достижением предельного возраста и старый ябедник Фёдоров, бывший после Соколова смотрителем почти целые 10 лет. Это десятилетие было временем переходным: в этот период под непрерывным натиском обитателей тюрьмы шаг за шагом завоёвывались, расширялись и получались разные льготы.
Кое-где в отдельных камерах ещё висела несорванная инструкция 1884 года. Но на практике уже не было речи о «хорошем поведении» и о совместной прогулке, пользовании огородом и мастерскими как награде за него. Все эти льготы давно стали достоянием всех: всякое разделение на категории исчезло.
После голодовки из-за книг как бы взамен пищи духовной нам улучшили пищу телесную: стали давать чай и сахар на руки, ввели белый хлеб, увеличили суточную ассигновку на питание с 10 копеек до 23.
С этого времени медленное умирание от истощения прекратилось и здоровье всех оставшихся в живых стало заметно улучшаться.
Прогулка с первоначальных 40 минут постепенно удлинялась. Теперь почти весь день мы могли оставаться на воздухе и уходили с прогулки только в мастерские. Одно время летом нас выводили даже после ужина, который давали в 7 часов вечера. Каким праздником эта прогулка была для нас, давно забывших, что такое летний вечер!
Мы выходили в 8 часов всего на полчаса. Но какие это были чудные полчаса! Воздух, прохладный и влажный от близости реки и озера, непрерывно ласкал лицо, и грудь дышала так свободно… На небе зажигались звёзды; на западе в красках потухала заря; очертания тюрьмы, заборов и каменной громады крепостных стен становились менее резкими, стушёвывались и не так кололи глаз, как днем. Давно заснувшая, смягчающая эмоция просыпалась в душе: всё было необычайно кругом, и в душе тоже было необычайно.
Свет! Что может быть дороже света?! Нам дали его. Полусумерки камеры с её матовыми стеклами, чёрным полом и стенами, окрашенными в свинец, со всеми этими приспособлениями к тому, чтобы убить бодрость и свести к минимуму темп жизни, — всё исчезло. Жёлтый пол, голубовато-светло-серые стены, прозрачные стекла (сначала в верхней, но потом и в нижней части рамы) стёрли следы тёмного ящика, где заключённый должен был чувствовать себя полумертвецом. Света теперь стало достаточно. Дали больше и воздуха. Вместо небольшой форточки, которую первоначально открывали жандармы во время короткой прогулки, всю верхнюю часть рамы можно было откинуть и оставить открытой хоть на все 24 часа. Сколько раз с тех пор я могла прислушиваться к ритмическому прибою набегающих волн и как будто видеть всплески брызг, разбивающихся, казалось, о самые стены крепости…

Однообразие дня, который можно заполнить только чтением, одним только чтением, как бы ни была утомлена голова, — это однообразие кончилось. Вместо одиночества с книгой в руках через решётку виднелись лица товарищей, слышался их голос, с ними велись коллективные занятия на воздухе; и труд умственный перемежался с трудом физическим у верстака, за токарным станком или в переплетной. И сама книга была уже не та: вместо 160–170 названий всевозможного хлама наше книгохранилище разрослось за 18 лет до 2000 томов разнообразного, как серьёзного, так и лёгкого, беллетристического содержания.
Обращение с нами, если исключить крупные столкновения Мартынова и Лаговского со смотрителем Фёдоровым (в начале 90‑х годов), установилось корректное.
Когда Фёдоров вышел в отставку, департамент полиции прислал на должность смотрителя человека, который с гордостью рекомендовал себя как академика и хвалился, что он читал Писарева. Быть может, благодаря дипломированному образованию (нисколько, однако, не затронувшему ума этого ограниченного человека) его и приставили к нам, предполагая, что он сумеет держать себя со старыми революционерами. Гудзь был человек лет 34–35-ти, сухощавый, с мелкими чертами моложавого незначительного лица и столь же незначительным характером.
Мелкий формалист, пристававший по всяким пустым поводам, он не был находчив, этот Гусь, как мы звали его. Когда надо было чего-нибудь добиться, речистые товарищи всегда умели заговорить его. Смущённый, он не находил нужных аргументов и отступал или уступал. Жандармы, как мы позднее узнали, не терпели его за мелочные придирки и педантизм в соблюдении правил воинского устава. Они рассказывали, что, блюдя своё офицерское достоинство, он требовал, чтоб даже жёны унтеров при встрече отдавали ему честь, и когда его уволили после истории, в которой я была действующим лицом, жандармы выражали своё удовольствие в такой форме:
— Дай бог здоровья «одиннадцатой» (т. е. мне), что его от нас убрали.
Во всяком случае Гудзь не был злым: он отличался большой бестактностью, но в ней всегда чувствовалась ограниченность ума, а не злость, к которой он, кажется, был вовсе не способен. Он не умел как следует поставить себя, не знал, как держать себя, и в качестве смотрителя у нас был решительно не на своем месте. Благодаря этому и слетел с него.
К 900‑м годам высшие власти в Петербурге как будто забыли, что в 39 верстах от них в крепости содержатся важные государственные преступники; у них, этих властей, и без нас дела было по горло. Могучее развитие социал-демократического движения, непрерывные студенческие беспорядки, выступление на политическую арену народившегося к тому времени промышленного пролетариата, громко заявлявшего о своём существовании, поглощали всё внимание правительства. Революция решительно выходила на улицу, и красные флаги поднимались на городских площадях России… Где уж тут было думать о горсточке народовольцев начала 80‑х годов!
Почти четверть века прошло после 1 марта, и вместо прежнего затишья жизнь поднималась всё более высокой волной; бодрое веяние протеста чувствовалось по всей стране… Высокие сановники прекратили свои регулярные посещения Шлиссельбурга. Жандармы из Алексеевского равелина один за другим оставляли службу за выслугой пенсии, а оставшиеся поседели, оглохли, привыкли к охраняемым и… смягчились.
Некогда словно истуканы они стояли с застывшими лицами при обходе камер смотрителем Соколовым. Слышали или не слыхали обращений к ним — они казались глухи. Никогда смотритель не оставлял их наедине с нами. Теперь это случалось; их языки развязались; порой, когда вблизи не было более молодого товарища-шпиона, они вступали в целые беседы; они уже не боялись тяжёлой ответственности, не опасались ни бунта, ни возможности побега; револьверы в шкафах, припасённые на этот случай, вероятно, заржавели от неупотребления.
Если высшее начальство забыло нас, какие мотивы могла иметь тюремная администрация к тому, чтобы в пределах тюрьмы стеснять нас? Вожжи ослабели: лишь бы не случилось чего-нибудь из ряда выходящего; как бы не переполошилось от чего-нибудь высшее начальство в Петербурге; как бы не дошло до ушей его чего-нибудь заслуживающего нагоняя!
В тюрьме, в пределах нашей ограды, мы были господами положения. Если в тюремном здании раздавался шум голосов, крик и подчас брань, они исходили не от тюремного начальства, но от того или другого заключённого, особенно несдержанного и раздражительного. Не смотритель кричал — на него кричали.
В стародавние времена эти стычки приводили меня в ужас. Известно, чем кончались они при Соколове: карцер, смирительная рубашка, жестокое избиение… Каждый раз я боялась, что дело дойдёт до оскорбления действием. Теперь можно было знать наперёд, что, кроме крупных разговоров, ничего не будет… В общем, было затишье…
…Помню, какой болью отозвались в моей душе слова Тригони, сказанные как-то незадолго до его отъезда: «Никто из нас уже не способен на энергичный протест…»
Да. Сомнение могло закрасться… Сомнение в угасании духа.
Но на чём было проявить этот дух, не мирящийся с гнетом? Против чего протестовать? Чего добиваться? За что бороться? Жизнь решительно не давала к тому поводов.
13 лет не было переписки с родными. Но в 1897 году её дали. Поздно, но дали. Свиданий с родными не давали. Надо ли, можно ли было добиться этих свиданий? Не от местных властей зависело разрешение, а от далёких министров и ещё выше. И к чему были бы эти свидания? Не новым ли мучительством оказались бы они? Не лучше ли было не будить похороненных чувств и воспоминаний?..
Итак, всё, что своими силами и силой времени можно было завоевать и получить, оставаясь в пределах тюрьмы, было завоёвано и получено. Острота чувств и переживаний смягчилась, и мы походили на людей, которых буря выбросила на необитаемый остров, затерянный в необозримом океане. Горсточке новейших Робинзонов оставалось без надежды воссоединиться с остальным человечеством, поддерживать, насколько возможно, свои умственные силы и возделывать мирное поле труда.